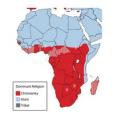На этой странице сайта находится литературное произведение автора, которого зовут Декарт Рене . На сайте сайт вы можете или скачать бесплатно книгу Размышления о первой философии в форматах RTF, TXT, FB2 и EPUB, или прочитать онлайн электронную книгу Декарт Рене - Размышления о первой философии без регистрации и без СМС.
Размер архива с книгой Размышления о первой философии = 50.76 KB
Рене Декарт
Размышления о первой философии
В коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом
Предисловие для читателя
Вопросы о Боге и человеческом уме я уже затронул в труде «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках», изданном на французском языке в 1637 году: там я не столько тщательно рассмотрел эти проблемы, сколько бегло коснулся их, дабы из суждений читателей понять, каким образом следует трактовать их впредь. Эти проблемы показались мне столь важными, что я не раз усматривал необходимость возвратиться к их исследованию; в их разработке я следую столь неизбитым, далеким от общепринятого путем, что мне показалось вредным издавать это сочинение на французском языке, в общедоступной форме,– я опасался, как бы более слабые умы не вообразили, будто они могут вступить на подобный же путь.
Я просил там всех, кому в моем сочинении что-либо покажется заслуживающим упрека, не преминуть сделать мне на этот счет указание, однако не получил ни единого возражения, достойного упоминания, за исключением двух, на которые вкратце отвечу до того, как приступлю к более тщательному рассмотрению этих вопросов.
Первое состоит в следующем: из того, что человеческая мысль, погруженная в самое себя, воспринимает себя исключительно как вещь мыслящую, не следует, будто ее природа, или сущность, состоит только в том, что она – вещь мыслящая: ведь слово только исключает все прочее, что может быть сказано относительно природы души. На это возражение я отвечаю, что даже и не помышлял в том сочинении исключать все прочее из ряда вещей, относящихся к самому существу предмета (коего я тогда не затрагивал), но думал исключить все это лишь в отношении моего восприятия – таким образом, чтобы ощущалась моя полная невосприимчивость к иным вещам, известным мне в отношении моей сущности, помимо того, что я – вещь мыслящая или, иначе говоря, обладающая способностью мыслить. В дальнейшем же я покажу, каким образом из того, что я не познаю ничего иного, относящегося к моей сущности, следует, что и действительно ничто иное к ней не относится.
Второе возражение состоит в следующем: из того, что у меня есть идея вещи более совершенной, нежели я, не следует, будто сама идея совершеннее меня, и тем более не следует существование того, что представлено этой идеей. Но я отвечаю: в слове идея содержится двусмысленность; его можно понимать в материальном смысле, как действие моего интеллекта – и в этом значении идея не может быть названа более совершенной, нежели я; но его можно понимать и в смысле объективном, как вещь, представленную указанным действием интеллекта,– и эта вещь, хоть и не предполагается ее существование вне интеллекта, тем не менее может быть совершеннее меня по самой своей сути. А каким образом из одного того, что у меня есть идея вещи более совершенной, чем я, следует, что вещь эта поистине существует, я подробно объясню ниже.
Кроме того, я видел два других довольно пространных сочинения, однако в них не столько опровергались мои доводы по указанным вопросам, сколько оспаривались при помощи аргументов, заимствованных из общих мест атеистов, сделанные из них выводы. И поскольку подобного рода аргументы не имеют никакой силы для тех, кто понимает суть моих доводов, и суждения большинства столь нелепы и беспомощны (ведь оно скорее прислушивается к первым попавшимся мнениям, нежели к истинному и основательному, но услышанному позже опровержению), я не желаю здесь на них отвечать, дабы они не оказались у меня изложенными в первую очередь. Скажу тут лишь в общем: все то, что обычно выдвигается атеистами для опровержения бытия Бога, всегда связано с тем, что либо Богу приписываются человеческие аффекты, либо нашим умственным способностям дерзко присваивается великая сила и мудрость, якобы позволяющая нам определять и постигать, на какие действия способен и что именно должен делать Бог. Таким образом, едва лишь мы вспомним, что наши умственные способности надо считать конечными, Бога же – непостижимым и бесконечным, все эти возражения теряют для нас всякую силу.
Теперь, познакомившись в какой-то степени с суждениями других, я вновь приступаю к тем же вопросам о Боге и человеческом уме, дабы одновременно разработать начала всей первой философии. При этом я не уповаю ни на малейшее одобрение толпы, ни на многочисленных читателей; напротив, я пишу лишь для тех, кто желает и может предаться вместе со мной серьезному размышлению и освободить свой ум не только от соучастия чувств, но и от всякого рода предрассудков,– а таких читателей, как я хорошо понимаю, найдется совсем немного. Что же до тех, кто, не озаботившись пониманием порядка и связи моих аргументов, займется, как часто делают многие, пустой болтовней по поводу выхваченных наугад концовок, то они не извлекут для себя из прочтения этой книги большой пользы; и хотя они могут во многих случаях отыскать повод для пустопорожних шуток, им не легко будет возразить мне что-либо, вынуждающее к ответу и такого ответа достойное.
Но поскольку я никому не могу обещать, что сразу дам полное удовлетворение, и я не настолько высокомерен, чтобы претендовать на уменье предвидеть все, что кому-либо покажется затруднительным, я прежде всего изложу в «Размышлениях» те самые мысли, которые, как мне представляется, привели меня к очевидному и достоверному познанию истины,– дабы испытать, могу ли я теми же доводами, кои убедили меня самого, убедить также и других. Затем я отвечу на возражения некоторых мужей, прославленных своей ученостью и дарованием, которым эти «Размышления» были посланы для рассмотрения ранее, чем я отдал их в печать. Они представили мне многочисленные и разнообразные возражения, так что, смею надеяться, другим вряд ли легко придет в голову что-либо мало-мальски значительное, что не было бы ими затронуто. Поэтому я очень прошу читателей, чтобы они вынесли суждение о моих «Размышлениях» не раньше, чем удостоят прочесть все эти возражения и мои последующие разъяснения.
Краткий обзор шести предлагаемых «размышлений»
В "Первом размышлении " излагаются причины, по которым мы имеем право сомневаться относительно всех вещей, особенно материальных, до тех самых пор, пока у нас не будет иных научных оснований, нежели те, кои были у нас раньше. И хотя полезность такого рода размышления не сразу бросается в глаза, оно тем не менее весьма важно в том отношении, что освобождает нас от всех предрассудков и пролагает легчайший путь к отчуждению ума от чувств; наконец, оно подводит нас к отказу от сомнений в тех вещах, истинность которых оно устанавливает.
Во "Втором размышлении " говорится об уме, который, пользуясь присущей ему свободой, предполагает, что не существует ничего из вещей, относительно существования коих он может питать хоть малейшее сомнение; в то же время он замечает, что его собственное существование отрицать невозможно. Это заключение ума также весьма полезно, ибо таким образом он легко отличает вещи, относящиеся к нему, то есть к мыслящей природе (natura intellectualis), от вещей, принадлежащих телу. Но поскольку некоторые читатели, быть может, станут искать здесь аргументы в пользу бессмертия души, я считаю своим долгом тут же их предупредить, что стараюсь писать лишь о том, что я в состоянии доказать со всей точностью, а потому я мог идти лишь таким путем, какой обычен для геометров: именно, я должен изложить все то, от чего зависит искомое положение, прежде чем сделаю относительно него какой-либо вывод. Первой же и главнейшей предпосылкой для познания бессмертия души является предельно ясное понятие о душе, совершенно отличное от какого бы то ни было понятия о теле; эта-то задача здесь и решена. Притом от нас требуется также понять: все, что мы постигаем ясно и отчетливо, тем самым – в силу такого рода постижения – истинно; но вплоть до «Четвертого размышления» положение это не может быть доказано. Кроме того, необходимо иметь отчетливое понятие (conceptus) природы тела – мы формируем его частично в этом «Втором размышлении», частично же в пятом и шестом. Далее, из этого надлежит сделать следующее заключение: все, что ясно и отчетливо воспринимается в качестве различных субстанций – подобно тому как мы постигаем различие ума и тела,– поистине и реально суть субстанции, отличающиеся друг от друга; в «Шестом размышлении» я и делаю этот вывод. Там же я подтверждаю свой вывод соображением, что любое тело мы воспринимаем в качестве чего-то делимого, в то время как любой ум (mens), напротив, постигается нами в качестве неделимого: ведь нам не дано помыслить срединную часть ума, как дано постичь срединную часть любого сколь угодно малого тела. Таким образом, природа ума и тела признается нами не только различной, но даже в известной мере противоположной. Однако в данном сочинении я более не обсуждаю этот вопрос, поскольку сказанного достаточно, чтобы установить, что из разрушения тела не вытекает гибель души, и дать, таким образом, смертным надежду на иное существование. Более того, посылки, из коих может быть сделан вывод о самом бессмертии души, зависят от объяснения всей природы в целом; потому что прежде всего надобно знать: все субстанции, для созидания и последующего существования которых необходим Бог, по самой своей природе неуничтожимы и бытие их не может иметь конца, кроме тех случаев, когда сам Бог отказывает им в своем содействии и они обращаются им в ничто. Далее надо заметить, что тело, взятое в своем родовом значении, есть субстанция и потому никогда не гибнет. Но человеческое тело, отличаясь от прочих тел, являет собой соединение членов, имеющих определенную форму, и других подобных же акциденций; человеческий же ум не представляет какого-то соединения акциденций, но являет собой чистую субстанцию, и, хотя все его акциденции подвержены изменению – он то понимает какие-то веши, то желает другие или чувствует третьи и т. д.,– тем не менее сам по себе он не изменяется; а что касается тела человека, то оно изменяется хотя бы уже потому, что подвержены изменению формы некоторых его частей. Из этого следует, что тело весьма легко погибает, ум же по самой природе своей бессмертен.
В "Третьем размышлении " я разъясняю, как мне кажется, достаточно подробно свой главный аргумент, доказывающий существование Бога. Однако, поскольку я, имея целью предельное абстрагирование сознания (animus) читателей от чувств, не пожелал воспользоваться никакими сравнениями, почерпнутыми из области телесных вещей, здесь может остаться множество неясностей, кои, как я надеюсь, позже, в моих ответах на возражения, будут полностью сняты; среди них – вопрос о том, каким образом присутствующая в нас идея наисовершеннейшего существа содержит в себе столь высокую объективную реальность, что не может не проистекать от наисовершеннейшей причины. Я иллюстрирую там это утверждение сравнением с высокосовершенной машиной, идея которой присутствует в уме какого-либо мастера; а именно, как объективное творение мастера должно иметь какую-то причину своей идеи, каковой является либо уменье этого мастера, либо чье-то чужое знание, которое он заимствует, так и наша идея Бога не может не иметь в качестве своей причины самого Бога.
В "Четвертом размышлении " я показываю, что все, воспринимаемое нами ясно и отчетливо, тем самым истинно, и одновременно разъясняю, в чем состоит суть лжи; то и другое необходимо знать – как для подтверждения предшествующих аргументов, так и для постижения всего остального. (Там же нужно обратить внимание, что речь ни в коей мере не идет о прегрешении либо ошибке, совершаемой в поисках добра или зла, но лишь о том, что связано с различением истинного и ложного. Я не рассматриваю вопросы, относящиеся к вере или к поведению человека в жизни, но одни лишь умозрительные истины, постигаемые только посредством естественного света разума.)
В "Пятом размышлении ", помимо того что там объясняется категория телесной природы, новым способом доказывается существование Бога; здесь опять-таки могут возникнуть некоторые неясности, каковые я разрешаю в последующих моих ответах на возражения. И наконец, я показываю, каким образом достоверность самих геометрических доказательств зависит от познания Бога.
И только в "Шестом размышлении " проводится различие между разумением (intellectio) и воображением (imaginatio). Я описываю признаки, по которым они различаются, доказываю реальное отличие ума от тела, но при этом утверждаю: первый столь тесно сопряжен со вторым, что составляет с ним некое единое целое. Далее я перечисляю все заблуждения, обычно исходящие от наших чувств; излагаю способы, какими можно их избегнуть; наконец, привожу все аргументы, на основании которых может быть сделан вывод относительно существования материальных вещей. Я поступаю так не потому, что считаю подобные аргументы весьма полезными для доказательства действительного существования некоего мира и наличия тел у людей, а также для доказательства других подобных вещей, в коих никогда серьезно не сомневался ни один здравомыслящий человек, но потому, что рассмотрение этих аргументов подтверждает: здесь не существует столь же прочных и очевидных доказательств, как те, что приводят нас к познанию нашего ума и Бога. Таким образом, эти последние аргументы суть достовернейшие и очевиднейшие из всех, какие нам дарит наш человеческий дух (ingenium). Такого рода доказательство и было единственной целью предлагаемых «Размышлений». Поэтому я не перечисляю здесь различные вопросы, попутно исследуемые в данном труде.
Первое размышление: О том, что может быть подвергнуто сомнению
Вот уже несколько лет, как я приметил, сколь многие ложные мнения я принимал с раннего детства за истинные и сколь сомнительны положения, выстроенные мною впоследствии на фундаменте этих ложных истин.; а из этого следует, что мне необходимо раз и навсегда до основания разрушить эту постройку и положить в ее основу новые первоначала, если только я хочу когда-либо установить в науках что-то прочное и постоянное. Однако труд этот виделся мне огромным, и я отложил его до возраста настолько зрелого, что более подходящие годы для жадного усвоения наук последовать за ним уже не могут. А посему я медлил так долго, что в дальнейшем не искупил бы своей вины, если бы время, оставшееся мне для действия, я потратил на размышления. Итак, я довольно кстати именно сейчас освободил свой ум от всяких забот и обеспечил себе безмятежный покой в полном уединении, дабы на свободе серьезно предаться этому решительному ниспровержению всех моих прежних мнений.
Для этого, однако, не было нужды обнаруживать ложность всех их без исключения, да я, возможно, и не сумел бы никогда этого достичь; но так как сам разум побуждает нас столь же тщательно воздерживаться от признания вполне достоверных и безусловных истин, сколь и от явно ложных, то, чтобы отвергнуть все эти мнения, будет довольно, если для каждого из них я найду причину в нем усомниться. Это не значит, что мне следует разбирать в отдельности каждое: то был бы нескончаемый труд; но так как подкоп фундамента означает неизбежное крушение всего воздвигнутого на этом фундаменте здания, я сразу поведу наступление на самые основания, на которые опирается все то, во что я некогда верил.
Без сомнения, все, что я до сих пор принимал за самое истинное, было воспринято мною или от чувств, или через посредство чувств; а между тем я иногда замечал, что они нас обманывают, благоразумие же требует никогда не доверяться полностью тому, что хоть однажды ввело нас в заблуждение.
Но, может быть, хотя чувства иногда и обманывают нас в отношении чего-то незначительного и далеко отстоящего, все же существует гораздо больше других вещей, не вызывающих никакого сомнения, несмотря на то что вещи эти воспринимаются нами с помощью тех же чувств. К примеру, я нахожусь здесь, в этом месте, сижу перед камином, закутанный в теплый халат, разглаживаю руками эту рукопись и т. д. Да и каким образом можно было бы отрицать, что руки эти и все это тело – мои? Разве только я мог бы сравнить себя с Бог ведает какими безумцами, чей мозг настолько помрачен тяжелыми парами черной желчи, что упорно твердит им, будто они – короли, тогда как они нищие, или будто они облачены в пурпур, когда они попросту голы, наконец, что голова у них глиняная либо они вообще не что иное, как тыквы или стеклянные шары; но ведь это помешанные, и я сам показался бы не меньшим безумцем, если бы перенял хоть какую-то их повадку.
Однако надо принять во внимание, что я человек, имеющий обыкновение по ночам спать и переживать во сне все то же самое, а иногда и нечто еще менее правдоподобное, чем те несчастные – наяву. А как часто виделась мне во время ночного покоя привычная картина – будто я сижу здесь, перед камином, одетый в халат, в то время как я раздетый лежал в постели! Правда, сейчас я бодрствующим взором вглядываюсь в свою рукопись, голова моя, которой я произвожу движения, не затуманена сном, руку свою я протягиваю с осознанным намерением – спящему человеку все это не случается ощущать столь отчетливо. Но на самом деле я припоминаю, что подобные же обманчивые мысли в иное время приходили мне в голову и во сне; когда я вдумываюсь в это внимательнее, то ясно вижу, что сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков; мысль эта повергает меня в оцепенение, и именно это состояние почти укрепляет меня в представлении, будто я сплю.
Допустим, что мы действительно спим и все эти частности – открывание глаз, движения головой, протягивание рук – не являются подлинными, и вдобавок, быть может, у нас и нет таких рук и всего этого тела; однако следует тут же признать, что наши сонные видения суть как бы рисованные картинки, которые наше воображение может создать лишь по образу и подобию реально существующих вещей; а посему эти общие представления относительно глаз, головы, рук и всего тела суть не воображаемые, но поистине сущие вещи. Ведь даже когда художники стремятся придать своим сиренам и сатирчикам самое необычное обличье, они не могут приписать им совершенно новую природу и внешний вид, а создают их облик всего лишь из соединения различных членов известных животных;
Было бы отлично, чтобы книга Размышления о первой философии автора Декарт Рене понравилась бы вам!
Если так будет, тогда вы могли бы порекомендовать эту книгу Размышления о первой философии своим друзьям, проставив гиперссылку на страницу с данным произведением: Декарт Рене - Размышления о первой философии.
Ключевые слова страницы: Размышления о первой философии; Декарт Рене, скачать, бесплатно, читать, книга, электронная, онлайн
Билет 32.
Рационализм Р. Декарта
Рационализм- метод, согласно которому основой познания и действия людей является разум и самосознание, а они уже дают основу для опыта. Можно сказать, что Декарт создаёт рационализм.
Декарт считал, что в мыслящем субъекте от рождения заложены идеи, которые не могут быть выведены из опыта. Декарт допуска существлвание двух субстанций - материальной (телесной, протяженной) и духовной (мыслящей). (дуализм)
Исходной точкой рассуждений Декарта является «сомнение во всем» - он хочет отказаться от любых ранее полученных знаний, чтобы прийти к истине.
Он не признавал авторитетов, считал, что они не являются источником информации. (Кроме математики)
Декарт описывает собственный метод познания:
Правило очевидности: не принимать за истинное то, что не проверил сам
Правило анализа: разделять проблему на несколько частей
Правило синтеза: располагать мсли в порядке
Правило контроля: делать перечни
Размышление первое
Предположим, что источник истины некий злобный дух, стремящийся обмануть нас; я буду считать, что небо, воздух, цвета, звуки и все внешние вещи - обманчивая игра сновидений. Будем считать, что и у меня нет какого-либо чувства, что все это существует только в моем ложном представлении. Я буду упорствовать, оставаясь при этом мнении, и, если не в моей власти познать что-либо истинное, то я надежно огражу себя таким разумением от того, чтобы согласиться с чем-нибудь ложным, и тогда уже наш обманщик никак не сможет повлиять на меня.
Размышление второе
Итак, все, что я вижу, - ложно. Никогда не существовало ничего из всех представляемых моей лживой памятью вещей. Что же будет истинно существующим?
Мышление одно не может быть отделено от меня. Я существую - верно и определенно - пока мыслю, ибо возможно, когда я буду лишен всякого мышления, я прекращу существовать. Значит, я - вещь истинная и действительно существующая и мыслящая. Вещь сомневающаяся, осознающая, утверждающая, отрицающая, желающая и не желающая, а также - воображающая и чувствующая.
Теперь мне известно, что тела познаются не чувствами, а интеллектом, и не из того, что их касаются или видят, но только из того, что их мыслят. Соответственно я ясно сознаю, что ничто не может быть познано мною с большей очевидностью, чем мой собственный разум.
Анализ 4 «Размышления о первоначальной философии» Р. Декарта.
Об истине и лжи
За эти дни я пришел к ясному выводу, что о вещах отделенных от материального мы можем узнать больше, чем от телесных. Человек склонен допускать ошибки, а значит он является вещью зависимой и несовершенной, значит, существует независимое и совершенное бытие – Бога. Соответственно Бог существует, и от него в каждый момент зависит существование человека.
Бог никогда не стал бы обманывать нас: ведь во всякой лжи заключено нечто несовершенное. Я ощущаю в себе некую способность суждения, которую получил от Бога; он дал бы мне её, чтобы я заблуждался.
Я замечаю, что предо мной возникает не только реальная и положительная идея Бога, но, и некая отрицательная идея того небытия, причем сам я оказываюсь созданным чем-то средним между Богом и небытием.
Мне прежде всего приходит на ум, что меня не должно удивлять, если причины некоторых деяний Бога остаются для меня непонятными, ибо что моя природа весьма слаба и ограниченна, божественная же природа - непостижима и безгранична.
И хотя я до сих пор сумел с достоверностью установить лишь существование себя самого и Бога, я не могу отрицать возможности творения им многих других вещей. Таким образом, выяснилось, что сам я играю в универсуме роль части.
Далее, когда я исследую характер своих ошибок, я замечаю, что они зависят от моего интеллекта и моей воли. Я не вправе также жаловаться па то, что получил от Бога недостаточно сильную и совершенную волю, или свободу выбора, ибо я чувствую, что она не имеет никаких пределов. И только воля, или свобода выбора, как я ощущаю, у меня такова, что я не постигаю идеи большей. Разумеется, ни божественная благость, ни естественное познание никогда не угрожают свободе выбора, состояние безразличия, когда разум никак не склоняет меня в одну сторону более, чем в другую, то это низшая степень свободы.
Так от чего же происходят мои ошибки? А лишь от того, что, поскольку воля обширнее интеллекта
Теперь же я не только знаю, что я - вещь мыслящая - существую, но у меня возникает некая идея телесной природы и мне приходит на ум сомнение, отличается ли моя мыслящая природа от телесной природы; при этом до сих пор моему умственному взору не представилось ни одного основания уверовать в одно более, нежели в другое. Разумеется, в силу этого я пребываю безразличным к утверждению либо отрицанию как того, так и другого
Сегодня я познал также, что я должен всеми силами доискиваться истины.
Cogito – понятие, введенное Декартом в философию. Означает «я мыслю, значит существую». Говорил, что сомнение необходимо, что нужно сомневаться во всем. Ибо тот, кто сомневается, он думает и размышляет.
По Декарту в деятельности познающего чуловека есть то, что сомнению не подлежит. Это факт самого сомнения. «Можно сомневаться в существовании всего, кроме существования самого сомнения. Но сомнение – есть акт мышления. По скольку я сомневаюсь, я мыслю. Я могу сомневаться в том, существует ли в действительности мое тело: может быть, просто какой-то всесильный демон-обманщик делает так, что мне кажется будто бы тело у меня есть. Но я точно знаю, что существую в качестве мыслящего, сомневающегося существа.
| | | следующая лекция ==> | |
| Особенности спроса на российском рынке труда | | |
Рене Декарт
Размышления о первой философии
В коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом
Предисловие для читателя
Вопросы о Боге и человеческом уме я уже затронул в труде «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках», изданном на французском языке в 1637 году: там я не столько тщательно рассмотрел эти проблемы, сколько бегло коснулся их, дабы из суждений читателей понять, каким образом следует трактовать их впредь. Эти проблемы показались мне столь важными, что я не раз усматривал необходимость возвратиться к их исследованию; в их разработке я следую столь неизбитым, далеким от общепринятого путем, что мне показалось вредным издавать это сочинение на французском языке, в общедоступной форме,– я опасался, как бы более слабые умы не вообразили, будто они могут вступить на подобный же путь.
Я просил там всех, кому в моем сочинении что-либо покажется заслуживающим упрека, не преминуть сделать мне на этот счет указание, однако не получил ни единого возражения, достойного упоминания, за исключением двух, на которые вкратце отвечу до того, как приступлю к более тщательному рассмотрению этих вопросов.
Первое состоит в следующем: из того, что человеческая мысль, погруженная в самое себя, воспринимает себя исключительно как вещь мыслящую, не следует, будто ее природа, или сущность, состоит только в том, что она – вещь мыслящая: ведь слово только исключает все прочее, что может быть сказано относительно природы души. На это возражение я отвечаю, что даже и не помышлял в том сочинении исключать все прочее из ряда вещей, относящихся к самому существу предмета (коего я тогда не затрагивал), но думал исключить все это лишь в отношении моего восприятия – таким образом, чтобы ощущалась моя полная невосприимчивость к иным вещам, известным мне в отношении моей сущности, помимо того, что я – вещь мыслящая или, иначе говоря, обладающая способностью мыслить. В дальнейшем же я покажу, каким образом из того, что я не познаю ничего иного, относящегося к моей сущности, следует, что и действительно ничто иное к ней не относится.
Второе возражение состоит в следующем: из того, что у меня есть идея вещи более совершенной, нежели я, не следует, будто сама идея совершеннее меня, и тем более не следует существование того, что представлено этой идеей. Но я отвечаю: в слове идея содержится двусмысленность; его можно понимать в материальном смысле, как действие моего интеллекта – и в этом значении идея не может быть названа более совершенной, нежели я; но его можно понимать и в смысле объективном, как вещь, представленную указанным действием интеллекта,– и эта вещь, хоть и не предполагается ее существование вне интеллекта, тем не менее может быть совершеннее меня по самой своей сути. А каким образом из одного того, что у меня есть идея вещи более совершенной, чем я, следует, что вещь эта поистине существует, я подробно объясню ниже.
Кроме того, я видел два других довольно пространных сочинения, однако в них не столько опровергались мои доводы по указанным вопросам, сколько оспаривались при помощи аргументов, заимствованных из общих мест атеистов, сделанные из них выводы. И поскольку подобного рода аргументы не имеют никакой силы для тех, кто понимает суть моих доводов, и суждения большинства столь нелепы и беспомощны (ведь оно скорее прислушивается к первым попавшимся мнениям, нежели к истинному и основательному, но услышанному позже опровержению), я не желаю здесь на них отвечать, дабы они не оказались у меня изложенными в первую очередь. Скажу тут лишь в общем: все то, что обычно выдвигается атеистами для опровержения бытия Бога, всегда связано с тем, что либо Богу приписываются человеческие аффекты, либо нашим умственным способностям дерзко присваивается великая сила и мудрость, якобы позволяющая нам определять и постигать, на какие действия способен и что именно должен делать Бог. Таким образом, едва лишь мы вспомним, что наши умственные способности надо считать конечными, Бога же – непостижимым и бесконечным, все эти возражения теряют для нас всякую силу.
Теперь, познакомившись в какой-то степени с суждениями других, я вновь приступаю к тем же вопросам о Боге и человеческом уме, дабы одновременно разработать начала всей первой философии. При этом я не уповаю ни на малейшее одобрение толпы, ни на многочисленных читателей; напротив, я пишу лишь для тех, кто желает и может предаться вместе со мной серьезному размышлению и освободить свой ум не только от соучастия чувств, но и от всякого рода предрассудков,– а таких читателей, как я хорошо понимаю, найдется совсем немного. Что же до тех, кто, не озаботившись пониманием порядка и связи моих аргументов, займется, как часто делают многие, пустой болтовней по поводу выхваченных наугад концовок, то они не извлекут для себя из прочтения этой книги большой пользы; и хотя они могут во многих случаях отыскать повод для пустопорожних шуток, им не легко будет возразить мне что-либо, вынуждающее к ответу и такого ответа достойное.
Но поскольку я никому не могу обещать, что сразу дам полное удовлетворение, и я не настолько высокомерен, чтобы претендовать на уменье предвидеть все, что кому-либо покажется затруднительным, я прежде всего изложу в «Размышлениях» те самые мысли, которые, как мне представляется, привели меня к очевидному и достоверному познанию истины,– дабы испытать, могу ли я теми же доводами, кои убедили меня самого, убедить также и других. Затем я отвечу на возражения некоторых мужей, прославленных своей ученостью и дарованием, которым эти «Размышления» были посланы для рассмотрения ранее, чем я отдал их в печать. Они представили мне многочисленные и разнообразные возражения, так что, смею надеяться, другим вряд ли легко придет в голову что-либо мало-мальски значительное, что не было бы ими затронуто. Поэтому я очень прошу читателей, чтобы они вынесли суждение о моих «Размышлениях» не раньше, чем удостоят прочесть все эти возражения и мои последующие разъяснения.
Краткий обзор шести предлагаемых «размышлений»
В " Первом размышлении " излагаются причины, по которым мы имеем право сомневаться относительно всех вещей, особенно материальных, до тех самых пор, пока у нас не будет иных научных оснований, нежели те, кои были у нас раньше. И хотя полезность такого рода размышления не сразу бросается в глаза, оно тем не менее весьма важно в том отношении, что освобождает нас от всех предрассудков и пролагает легчайший путь к отчуждению ума от чувств; наконец, оно подводит нас к отказу от сомнений в тех вещах, истинность которых оно устанавливает.
Во " Втором размышлении " говорится об уме, который, пользуясь присущей ему свободой, предполагает, что не существует ничего из вещей, относительно существования коих он может питать хоть малейшее сомнение; в то же время он замечает, что его собственное существование отрицать невозможно. Это заключение ума также весьма полезно, ибо таким образом он легко отличает вещи, относящиеся к нему, то есть к мыслящей природе (natura intellectualis), от вещей, принадлежащих телу. Но поскольку некоторые читатели, быть может, станут искать здесь аргументы в пользу бессмертия души, я считаю своим долгом тут же их предупредить, что стараюсь писать лишь о том, что я в состоянии доказать со всей точностью, а потому я мог идти лишь таким путем, какой обычен для геометров: именно, я должен изложить все то, от чего зависит искомое положение, прежде чем сделаю относительно него какой-либо вывод. Первой же и главнейшей предпосылкой для познания бессмертия души является предельно ясное понятие о душе, совершенно отличное от какого бы то ни было понятия о теле; эта-то задача здесь и решена. Притом от нас требуется также понять: все, что мы постигаем ясно и отчетливо, тем самым – в силу такого рода постижения – истинно; но вплоть до «Четвертого размышления» положение это не может быть доказано. Кроме того, необходимо иметь отчетливое понятие (conceptus) природы тела – мы формируем его частично в этом «Втором размышлении», частично же в пятом и шестом. Далее, из этого надлежит сделать следующее заключение: все, что ясно и отчетливо воспринимается в качестве различных субстанций – подобно тому как мы постигаем различие ума и тела,– поистине и реально суть субстанции, отличающиеся друг от друга; в «Шестом размышлении» я и делаю этот вывод. Там же я подтверждаю свой вывод соображением, что любое тело мы воспринимаем в качестве чего-то делимого, в то время как любой ум (mens), напротив, постигается нами в качестве неделимого: ведь нам не дано помыслить срединную часть ума, как дано постичь срединную часть любого сколь угодно малого тела. Таким образом, природа ума и тела признается нами не только различной, но даже в известной мере противоположной. Однако в данном сочинении я более не обсуждаю этот вопрос, поскольку сказанного достаточно, чтобы установить, что из разрушения тела не вытекает гибель души, и дать, таким образом, смертным надежду на иное существование. Более того, посылки, из коих может быть сделан вывод о самом бессмертии души, зависят от объяснения всей природы в целом; потому что прежде всего надобно знать: все субстанции, для созидания и последующего существования которых необходим Бог, по самой своей природе неуничтожимы и бытие их не может иметь конца, кроме тех случаев, когда сам Бог отказывает им в своем содействии и они обращаются им в ничто. Далее надо заметить, что тело, взятое в своем родовом значении, есть субстанция и потому никогда не гибнет. Но человеческое тело, отличаясь от прочих тел, являет собой соединение членов, имеющих определенную форму, и других подобных же акциденций; человеческий же ум не представляет какого-то соединения акциденций, но являет собой чистую субстанцию, и, хотя все его акциденции подвержены изменению – он то понимает какие-то веши, то желает другие или чувствует третьи и т. д.,– тем не менее сам по себе он не изменяется; а что касается тела человека, то оно изменяется хотя бы уже потому, что подвержены изменению формы некоторых его частей. Из этого следует, что тело весьма легко погибает, ум же по самой природе своей бессмертен.
В " Третьем размышлении " я разъясняю, как мне кажется, достаточно подробно свой главный аргумент, доказывающий существование Бога. Однако, поскольку я, имея целью предельное абстрагирование сознания (animus) читателей от чувств, не пожелал воспользоваться никакими сравнениями, почерпнутыми из области телесных вещей, здесь может остаться множество неясностей, кои, как я надеюсь, позже, в моих ответах на возражения, будут полностью сняты; среди них – вопрос о том, каким образом присутствующая в нас идея наисовершеннейшего существа содержит в себе столь высокую объективную реальность, что не может не проистекать от наисовершеннейшей причины. Я иллюстрирую там это утверждение сравнением с высокосовершенной машиной, идея которой присутствует в уме какого-либо мастера; а именно, как объективное творение мастера должно иметь какую-то причину своей идеи, каковой является либо уменье этого мастера, либо чье-то чужое знание, которое он заимствует, так и наша идея Бога не может не иметь в качестве своей причины самого Бога.
В " Четвертом размышлении " я показываю, что все, воспринимаемое нами ясно и отчетливо, тем самым истинно, и одновременно разъясняю, в чем состоит суть лжи; то и другое необходимо знать – как для подтверждения предшествующих аргументов, так и для постижения всего остального. (Там же нужно обратить внимание, что речь ни в коей мере не идет о прегрешении либо ошибке, совершаемой в поисках добра или зла, но лишь о том, что связано с различением истинного и ложного. Я не рассматриваю вопросы, относящиеся к вере или к поведению человека в жизни, но одни лишь умозрительные истины, постигаемые только посредством естественного света разума.)
В " Пятом размышлении ", помимо того что там объясняется категория телесной природы, новым способом доказывается существование Бога; здесь опять-таки могут возникнуть некоторые неясности, каковые я разрешаю в последующих моих ответах на возражения. И наконец, я показываю, каким образом достоверность самих геометрических доказательств зависит от познания Бога.
И только в " Шестом размышлении " проводится различие между разумением (intellectio) и воображением (imaginatio). Я описываю признаки, по которым они различаются, доказываю реальное отличие ума от тела, но при этом утверждаю: первый столь тесно сопряжен со вторым, что составляет с ним некое единое целое. Далее я перечисляю все заблуждения, обычно исходящие от наших чувств; излагаю способы, какими можно их избегнуть; наконец, привожу все аргументы, на основании которых может быть сделан вывод относительно существования материальных вещей. Я поступаю так не потому, что считаю подобные аргументы весьма полезными для доказательства действительного существования некоего мира и наличия тел у людей, а также для доказательства других подобных вещей, в коих никогда серьезно не сомневался ни один здравомыслящий человек, но потому, что рассмотрение этих аргументов подтверждает: здесь не существует столь же прочных и очевидных доказательств, как те, что приводят нас к познанию нашего ума и Бога. Таким образом, эти последние аргументы суть достовернейшие и очевиднейшие из всех, какие нам дарит наш человеческий дух (ingenium). Такого рода доказательство и было единственной целью предлагаемых «Размышлений». Поэтому я не перечисляю здесь различные вопросы, попутно исследуемые в данном труде.
Первое размышление: О том, что может быть подвергнуто сомнению
Вот уже несколько лет, как я приметил, сколь многие ложные мнения я принимал с раннего детства за истинные и сколь сомнительны положения, выстроенные мною впоследствии на фундаменте этих ложных истин.; а из этого следует, что мне необходимо раз и навсегда до основания разрушить эту постройку и положить в ее основу новые первоначала, если только я хочу когда-либо установить в науках что-то прочное и постоянное. Однако труд этот виделся мне огромным, и я отложил его до возраста настолько зрелого, что более подходящие годы для жадного усвоения наук последовать за ним уже не могут. А посему я медлил так долго, что в дальнейшем не искупил бы своей вины, если бы время, оставшееся мне для действия, я потратил на размышления. Итак, я довольно кстати именно сейчас освободил свой ум от всяких забот и обеспечил себе безмятежный покой в полном уединении, дабы на свободе серьезно предаться этому решительному ниспровержению всех моих прежних мнений.
Для этого, однако, не было нужды обнаруживать ложность всех их без исключения, да я, возможно, и не сумел бы никогда этого достичь; но так как сам разум побуждает нас столь же тщательно воздерживаться от признания вполне достоверных и безусловных истин, сколь и от явно ложных, то, чтобы отвергнуть все эти мнения, будет довольно, если для каждого из них я найду причину в нем усомниться. Это не значит, что мне следует разбирать в отдельности каждое: то был бы нескончаемый труд; но так как подкоп фундамента означает неизбежное крушение всего воздвигнутого на этом фундаменте здания, я сразу поведу наступление на самые основания, на которые опирается все то, во что я некогда верил.
Без сомнения, все, что я до сих пор принимал за самое истинное, было воспринято мною или от чувств, или через посредство чувств; а между тем я иногда замечал, что они нас обманывают, благоразумие же требует никогда не доверяться полностью тому, что хоть однажды ввело нас в заблуждение.
Но, может быть, хотя чувства иногда и обманывают нас в отношении чего-то незначительного и далеко отстоящего, все же существует гораздо больше других вещей, не вызывающих никакого сомнения, несмотря на то что вещи эти воспринимаются нами с помощью тех же чувств. К примеру, я нахожусь здесь, в этом месте, сижу перед камином, закутанный в теплый халат, разглаживаю руками эту рукопись и т. д. Да и каким образом можно было бы отрицать, что руки эти и все это тело – мои? Разве только я мог бы сравнить себя с Бог ведает какими безумцами, чей мозг настолько помрачен тяжелыми парами черной желчи, что упорно твердит им, будто они – короли, тогда как они нищие, или будто они облачены в пурпур, когда они попросту голы, наконец, что голова у них глиняная либо они вообще не что иное, как тыквы или стеклянные шары; но ведь это помешанные, и я сам показался бы не меньшим безумцем, если бы перенял хоть какую-то их повадку.
Однако надо принять во внимание, что я человек, имеющий обыкновение по ночам спать и переживать во сне все то же самое, а иногда и нечто еще менее правдоподобное, чем те несчастные – наяву. А как часто виделась мне во время ночного покоя привычная картина – будто я сижу здесь, перед камином, одетый в халат, в то время как я раздетый лежал в постели! Правда, сейчас я бодрствующим взором вглядываюсь в свою рукопись, голова моя, которой я произвожу движения, не затуманена сном, руку свою я протягиваю с осознанным намерением – спящему человеку все это не случается ощущать столь отчетливо. Но на самом деле я припоминаю, что подобные же обманчивые мысли в иное время приходили мне в голову и во сне; когда я вдумываюсь в это внимательнее, то ясно вижу, что сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков; мысль эта повергает меня в оцепенение, и именно это состояние почти укрепляет меня в представлении, будто я сплю.
Допустим, что мы действительно спим и все эти частности – открывание глаз, движения головой, протягивание рук – не являются подлинными, и вдобавок, быть может, у нас и нет таких рук и всего этого тела; однако следует тут же признать, что наши сонные видения суть как бы рисованные картинки, которые наше воображение может создать лишь по образу и подобию реально существующих вещей; а посему эти общие представления относительно глаз, головы, рук и всего тела суть не воображаемые, но поистине сущие вещи. Ведь даже когда художники стремятся придать своим сиренам и сатирчикам самое необычное обличье, они не могут приписать им совершенно новую природу и внешний вид, а создают их облик всего лишь из соединения различных членов известных животных; но, даже если они сумеют измыслить нечто совершенно новое и дотоле невиданное, то есть абсолютно иллюзорное и лишенное подлинности, все же эти изображения по меньшей мере должны быть выполнены в реальных красках. По той же самой причине, если даже эти общие понятия – «глаза», «голова», «руки» и т. п.– могут быть иллюзорными, с необходимостью следует признать, что по крайней мере некоторые другие вещи, еще более простые и всеобщие, подлинны и из их соединения, подобно соединению истинных красок, создаются воображением все эти существующие в нашей мысли (in cogitatione nostrae) то ли истинные, то ли ложные образы вещей.
Такого рода универсальными вещами являются, по-видимому, вся телесная природа и ее протяженность, а также очертания протяженных вещей, их количество, или величина, и число, наконец, место, где они расположены, время, в течение которого они существуют, и т. п. На этом основании, быть может, будет правдоподобным наш вывод, гласящий, что физика, астрономия, медицина и все прочие науки, связанные с исследованием сложных вещей, недостаточно надежны; что же до арифметики, геометрии и других такого же рода дисциплин, изучающих лишь простейшие и наиболее общие понятия – причем их мало заботит, существуют ли эти понятия в природе вещей,– то они содержат в себе нечто достоверное и не подлежащее сомнению. Ибо сплю ли я или бодрствую, два плюс три дают пять, а квадрат не может иметь более четырех сторон; представляется совершенно немыслимым подозревать, чтобы столь ясные истины были ложны.
Между тем в моем уме издавна прочно укоренилось мнение, что Бог существует, что он всемогущ и что он создал меня таким, каков я есть. Но откуда я знаю, не устроил ли он все так, что вообще не существует ни земли, ни неба, никакой протяженности, формы, величины и никакого места, но тем не менее все это существует в моем представлении таким, каким оно мне сейчас видится? Более того, поскольку я иногда считаю, что другие люди заблуждаются в вещах, которые, как они считают, они знают в совершенстве, то не устроил ли Бог так, что я совершаю ошибку всякий раз, когда прибавляю к двум три или складываю стороны квадрата либо Произвожу какое-нибудь иное легчайшее мысленное действие? Но, может быть, Бог не пожелал, чтобы я так обманывался,– ведь он считается всеблагим? Однако, если его благости в высшей степени противоречило бы, если бы он создал меня вечно заблуждающейся тварью, той же благости должно быть чуждо намерение вводить меня иногда в заблуждение; а между тем этого последнего нельзя исключить.
Быть может, найдутся люди, предпочитающие отрицать существование столь могущественного Бога, чтобы не признавать недостоверность всех остальных вещей. Что ж, не будем пока с ними спорить и допустим, что все наши представления о Боге ложны. Но поскольку ошибки в заблуждения считаются неким несовершенством, то, каким бы образом я, по их мнению, ни достиг состояния своего бытия – в силу ли рока, случайности, последовательной связи вещей или какой-то иной причины,– чем менее могущественным они сочтут виновника моего появления на свет, тем вероятнее я окажусь столь несовершенным, что буду всегда заблуждаться. На такого рода аргументы мне нечего возразить, и я вынужден признать, что из всех вещей, некогда почитавшихся мною истинными, нет ни одной, относительно которой было бы недопустимо сомневаться; к такому выводу я пришел не по опрометчивости и легкомыслию, но опираясь на прочные и продуманные основания. Поэтому я должен тщательно воздерживаться от одобрения не только вещей явно ложных, но точно так же и от того, что прежде мне мнилось истинным,– если только я хочу прийти к чему-либо достоверному.
Однако недостаточно того, чтобы только обратить на это внимание,– необходимо всегда это помнить; ведь привычные мнения упорно ко мне возвращаются и овладевают моей доверчивостью, словно против моей воли, как бы в силу долголетней привычки и знакомства с ними; а я никогда не отвыкну соглашаться с ними и им доверять, пока буду считать их такими, каковы они и на самом деле, то есть в чем-то сомнительными (как я только что показал), но тем не менее весьма вероятными и гораздо более заслуживающими доверия, нежели опровержения. А посему, как я полагаю, я поступлю хорошо, если, направив свою волю по прямо противоположному руслу, обману самого себя и на некоторый срок представлю себе эти прежние мнения совершенно ложными домыслами – до тех пор, пока, словно уравновесив на весах старые и новые предрассудки, я не избавлюсь от своей дурной привычки отвлекать мое суждение от правильного восприятия (perceptio). Ведь я уверен, что отсюда не воспоследует никакой опасности заблуждения, а также и не останется места для дальнейшей неуверенности, поскольку я усердствую теперь не в каких-то поступках, но лишь в познании вещей.
Итак, я сделаю допущение, что не всеблагой Бог, источник истины, но какой-то злокозненный гений, очень могущественный и склонный к обману, приложил всю свою изобретательность к тому, чтобы ввести меня в заблуждение: я буду мнить небо, воздух, землю, цвета, очертания, звуки и все вообще внешние вещи всего лишь пригрезившимися мне ловушками, расставленными моей доверчивости усилиями этого гения; я буду рассматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств: обладание всем этим, стану я полагать, было лишь моим ложным мнением; я прочно укореню в себе это предположение, и тем самым, даже если и не в моей власти окажется познать что-то истинное, по крайней мере, от меня будет зависеть отказ от признания лжи, и я, укрепив свой разум, уберегу себя от обманов этого гения, каким бы он ни был могущественным и искусным. Однако решение это исполнено трудностей, и склонность к праздности призывает меня обратно к привычному образу жизни. Я похож на пленника, наслаждавшегося во сне воображаемой свободой, но потом спохватившегося, что он спит: он боится проснуться и во сне размягченно потакает приятным иллюзиям; так и я невольно соскальзываю к старым своим представлениям и страшусь пробудиться – из опасения, что тяжкое бодрствование, которое последует за мягким покоем, может не только не привести меня в будущем к какому-то свету, но и ввергнуть меня в непроглядную тьму нагроможденных ранее трудностей.
Второе размышление: О природе человеческого ума: о том, что ум легче познать, нежели тело
Вчерашнее мое размышление повергло меня в такие сомнения, что, с одной стороны, я уже не могу теперь выкинуть их из головы, а с другой – я не вижу пути, на котором сомнения эти могут быть сняты. Словно брошенный внезапно в глубокий омут, я настолько растерян, что не могу ни упереться ногою в дно, ни всплыть на поверхность. Однако я хочу приложить все усилия и сделать попытку вернуться на путь, на который я стал вчера: а именно, я хочу устранить все то, что допускает хоть малейшую долю сомнения, причем устранить не менее решительно, чем если бы я установил полную обманчивость всех этих вещей; я буду продолжать идти этим путем до тех пор, пока не сумею убедиться в чем-либо достоверном – хотя бы в том, что не существует ничего достоверного. Архимед искал всего лишь надежную и неподвижную точку, чтобы сдвинуть с места всю Землю; так же и у меня появятся большие надежды, если я измыслю даже самую малую вещь, которая была бы надежной и несокрушимой.
Размышления о первой философии,
в коих доказывается
существование Бога и различие между человеческой душой и телом
Вопросы о Боге и человеческом уме я уже затронул в труде «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках», изданном на французском языке в 1637 году: там я не столько тщательно рассмотрел эти проблемы, сколько бегло коснулся их, дабы из суждений читателей понять, каким образом следует трактовать их впредь. Эти проблемы показались мне столь важными, что я не раз усматривал необходимость возвратиться к их исследованию; в их разработке я следую столь неизбитым, далеким от общепринятого путём, что мне показалось вредным издавать это сочинение на французском языке, в общедоступной форме,– я опасался, как бы более слабые умы не вообразили, будто они могут вступить на подобный же путь.
Я просил там всех, кому в моём сочинении что-либо покажется заслуживающим упрека, не преминуть сделать мне на этот счёт указание, однако не получил ни единого возражения, достойного упоминания, за исключением двух, на которые вкратце отвечу до того, как приступлю к более тщательному рассмотрению этих вопросов.
Первое состоит в следующем: из того, что человеческая мысль, погруженная в самое себя, воспринимает себя исключительно как вещь мыслящую, не следует, будто её природа, или сущность, состоит только в том, что она – вещь мыслящая: ведь слово только исключает всё прочее, что может быть сказано относительно природы души. На это возражение я отвечаю, что даже и не помышлял в том сочинении исключать всё прочее из ряда вещей, относящихся к самому существу предмета (коего я тогда не затрагивал), но думал исключить всё это лишь в отношении моего восприятия – таким образом, чтобы ощущалась моя полная невосприимчивость к иным вещам, известным мне в отношении моей сущности, помимо того, что я – вещь мыслящая или, иначе говоря, обладающая способностью мыслить. В дальнейшем же я покажу, каким образом из того, что я не познаю ничего иного, относящегося к моей сущности, следует, что и действительно ничто иное к ней не относится.
Второе возражение состоит в следующем: из того, что у меня есть идея вещи более совершенной, нежели я, не следует, будто сама идея совершеннее меня, и тем более не следует существование того, что представлено этой идеей. Но я отвечаю: в слове идея содержится двусмысленность; его можно понимать в материальном смысле, как действие моего интеллекта – и в этом значении идея не может быть названа более совершенной, нежели я; но его можно понимать и в смысле объективном, как вещь, представленную указанным действием интеллекта,– и эта вещь, хоть и не предполагается её существование вне интеллекта, тем не менее может быть совершеннее меня по самой своей сути. А каким образом из одного того, что у меня есть идея вещи более совершенной, чем я, следует, что вещь эта поистине существует, я подробно объясню ниже.
Кроме того, я видел два других довольно пространных сочинения, однако в них не столько опровергались мои доводы по указанным вопросам, сколько оспаривались при помощи аргументов, заимствованных из общих мест атеистов, сделанные из них выводы. И поскольку подобного рода аргументы не имеют никакой силы для тех, кто понимает суть моих доводов, и суждения большинства столь нелепы и беспомощны (ведь оно скорее прислушивается к первым попавшимся мнениям, нежели к истинному и основательному, но услышанному позже опровержению), я не желаю здесь на них отвечать, дабы они не оказались у меня изложенными в первую очередь. Скажу тут лишь в общем: всё то, что обычно выдвигается атеистами для опровержения бытия Бога, всегда связано с тем, что либо Богу приписываются человеческие аффекты, либо нашим умственным способностям дерзко присваивается великая сила и мудрость, якобы позволяющая нам определять и постигать, на какие действия способен и что именно должен делать Бог. Таким образом, едва лишь мы вспомним, что наши умственные способности надо считать конечными, Бога же – непостижимым и бесконечным, все эти возражения теряют для нас всякую силу.
Теперь, познакомившись в какой-то степени с суждениями других, я вновь приступаю к тем же вопросам о Боге и человеческом уме, дабы одновременно разработать начала всей первой философии. При этом я не уповаю ни на малейшее одобрение толпы, ни на многочисленных читателей; напротив, я пишу лишь для тех, кто желает и может предаться вместе со мной серьёзному размышлению и освободить свой ум не только от соучастия чувств, но и от всякого рода предрассудков,– а таких читателей, как я хорошо понимаю, найдется совсем немного. Что же до тех, кто, не озаботившись пониманием порядка и связи моих аргументов, займется, как часто делают многие, пустой болтовней по поводу выхваченных наугад концовок, то они не извлекут для себя из прочтения этой книги большой пользы; и хотя они могут во многих случаях отыскать повод для пустопорожних шуток, им не легко будет возразить мне что-либо, вынуждающее к ответу и такого ответа достойное.
Но поскольку я никому не могу обещать, что сразу дам полное удовлетворение, и я не настолько высокомерен, чтобы претендовать на уменье предвидеть все, что кому-либо покажется затруднительным, я прежде всего изложу в «Размышлениях» те самые мысли, которые, как мне представляется, привели меня к очевидному и достоверному познанию истины,– дабы испытать, могу ли я теми же доводами, кои убедили меня самого, убедить также и других. Затем я отвечу на возражения некоторых мужей, прославленных своей ученостью и дарованием, которым эти «Размышления» были посланы для рассмотрения ранее, чем я отдал их в печать. Они представили мне многочисленные и разнообразные возражения, так что, смею надеяться, другим вряд ли легко придёт в голову что-либо мало-мальски значительное, что не было бы ими затронуто. Поэтому я очень прошу читателей, чтобы они вынесли суждение о моих «Размышлениях» не раньше, чем удостоят прочесть все эти возражения и мои последующие разъяснения.
Из вышесказанного я начинаю несколько лучше понимать, что я семь; однако, мне кажется, до сих пор – и я не могу отделаться от этой мысли – телесные вещи, образы которых формируются нашим мышлением и как бы проверяются чувствами, воспринимаются нами гораздо отчётливее, нежели то неведомое мне моё я, которое недоступно воображению; правда, крайне удивительно то обстоятельство, что вещи сомнительные, непонятные и чуждые мне, как я заметил, представляются моему воображению отчётливее, нежели вещи истинные и познанные, то есть в конечном итоге я сам. Но я понимаю, в чём здесь дело: мысль моя радуется возможности уйти в сторону, и она не терпит, когда её ограничивают пределами истины. Пусть будет так: ослабим пока как можно больше поводья, дабы несколько позже вовремя их натянуть и тем самым легче привести свою мысль к повиновению.
Давайте рассмотрим вещи, обычно считающиеся наиболее отчётливо мыслимыми, а именно тела, кои мы осязаем и зрим: я имею в виду не тела вообще, ибо такие общие представления обычно бывают несколько более смутными, но лишь тела единичные. Возьмем, к примеру, вот этот воск: он совсем недавно был извлечён из пчелиных сот и ещё не утратил до конца аромат мёда; немножко осталось в нём и от запаха цветов, с которых этот мёд был собран; его цвет, очертания, размеры очевидны; он твёрд, холоден, легко поддаётся нажиму и, если ударить по нему пальцем, издаёт звук; итак, ему присущи все свойства, необходимые для возможно более отчётливого познания любого тела. Но вот, пока я это произношу, его приближают к огню: сохранившиеся в нём запахи исчезают, аромат выдыхается, меняется его цвет, очертания расплываются, он увеличивается в размерах, становится жидким, горячим, едва допускает прикосновение и при ударе не издаёт звука. Что же, он и теперь остаётся тем воском, что и прежде? Надо признать, что да, – никто этого не отрицает, никто не думает иначе. Так что же именно в нём столь отчётливо мыслилось? Разумеется, ни единое из тех свойств, кои я воспринимал при помощи чувств; ведь всё то, что воздействовало на вкус, обоняние, зрение, осязание или слух, теперь уже изменилось: остался только воск.
Пожалуй, он был тем же воском, какой я мыслю и теперь: ведь воск как таковой был не сладостью мёда, не ароматом цветов, не белизной, присущей ему ранее, не очертаниями или звуком, но телом, которое только что представлялось мне наделённым этими свойствами, теперь же – совсем другими. Однако что именно есть то, что я подобным образом себе представляю? Будем внимательны и, отбросив всё, что не имеет отношения к воску, посмотрим, что остаётся. Но не остаётся ничего, кроме некоей протяжённости, гибкости и изменчивости. Так что же представляет собой эта гибкость и изменчивость? Быть может, моё представление о том, что этому воску можно придать вместо округлой формы квадратную или вместо этой последней – треугольную? Да нет, никоим образом, ибо я понимаю, что он способен испытывать бесконечное число подобных превращений, а между тем моё воображение не поспевает за их количеством, так что моё понимание не становится совершеннее благодаря силе воображения. А что это за протяжённость? Неужели даже протяжённость воска есть нечто неведомое? В самом деле, ведь в растаявшем воске она больше, в кипящем – ещё больше и наибольшая – если его побольше нагреть; и я не сумею вынести правильное суждение об этом воске, если не сделаю вывод, что воск допускает гораздо больше вариантов протяжённости, чем я когда-то себе представлял. Мне остаётся признать, что я, собственно, и не представлял себе, что есть данный воск, но лишь воспринимал его мысленно; я разумею здесь именно этот кусок, ибо общее понятие воска более очевидно. Так что же это такое – воск, воспринимаемый только умом? Да то, что я вижу, ощущаю, представляю себе, то есть в конечном итоге то, чем я считал его с самого начала. Однако – и это необходимо подчеркнуть – восприятие воска не является ни зрением, ни осязанием, ни представлением, но лишь чистым умозрением, которое может быть либо несовершенным и смутным, каковым оно было у меня раньше, либо ясным и отчётливым, каково оно у меня сейчас, – в зависимости от более или менее внимательного рассмотрения составных частей воска.
Между тем я немало дивлюсь тому, насколько ум мой склонен к ошибкам: ведь в то время как я рассматриваю всё это про себя, тихо и безгласно, я испытываю затруднения в отношении самих слов и бываю почти что обманут в своих ожиданиях обычным способом выражения. Например, мы говорим, что видим тот же самый воск, но не говорим, что заключаем об этом на основании его цвета и очертаний. Из этого же я могу сразу заключить, будто я воспринимаю воск глазами, а не одним лишь умозрением (mentis inspectione ), если только я не приму во внимание, что всегда говорю по привычке, будто вижу из окна людей, переходящих улицу (точно так же, как я утверждаю, что вижу воск), а между тем я вижу всего лишь шляпы и плащи, в которые с таким же успехом могут быть облачены автоматы. Однако я выношу суждение, что вижу людей. Таким образом, то, что я считал воспринятым одними глазами, я на самом деле постигаю исключительно благодаря способности суждения, присущей моему уму.
Но стыдно тому, кто стремится возвыситься в своих суждениях над уровнем толпы, высказывать сомнение на основе способов выражения, придуманных той же толпою. Поэтому я пойду дальше и постараюсь понять, тогда ли я совершеннее и с большей очевидностью постигал, что такое воск, когда с первого взгляда заметил и убедился, что воспринимаю этот воск при помощи внешнего чувства (sensus externus ), как такового, либо, по крайней мере, при помощи чувствилища (sensus communis ), как это именуют, то есть способности представления, или же я постигаю его так теперь, после тщательного исследования того, что он собой представляет, и того, каким образом его можно познать? Разумеется, сомнение здесь нелепо: можно ли говорить о чём-либо ясном и отчётливом при первом из этих двух способов восприятия? О чём-то, чего не могло бы достичь любое животное? Но вот когда я отличаю воск от его внешних форм и начинаю рассматривать его как бы оголённым, лишённым покровов, я уже поистине не могу его рассматривать без помощи человеческого ума, пусть даже и теперь в моё суждение может вкрасться ошибка.
Однако что мне сказать об этом уме, то есть обо мне самом? Ибо я не допускаю в себе ничего иного, кроме ума. Так что же это такое – я, который, по-видимому, столь ясно и отчётливо воспринимает этот кусок воска? Не будет ли моё познание самого себя не только более истинным и достоверным, но и более отчётливым и очевидным? Ведь если я выношу суждение, что воск существует, на том основании, что я его вижу, то гораздо яснее обнаруживается моё собственное существование – хотя бы уже из того, что я вижу этот воск. Конечно, может статься, что видимое мною на самом деле вовсе не воск; может также оказаться, что у меня нет глаз, с помощью которых я могу что-либо видеть; но, когда я вижу или мысленно допускаю, что вижу (а я не делаю здесь различия), невозможно, чтобы сам я, мыслящий, не представлял собой нечто. Подобным образом, если я считаю, что воск существует, на том основании, что я его осязаю, то и отсюда следует то же самое: я существую. Если я сужу о существовании воска на том основании, что я его воображаю, или на каком бы то ни было другом основании, вывод будет точно такой же. Но ведь всё то, что я отметил в отношении воска, можно отнести и ко всем остальным вещам, находящимся вне меня. Далее, если восприятие воска показалось мне более чётким после того, как я его себе уяснил не только благодаря зрению и осязанию, но и благодаря другим причинам, то насколько отчётливее (как я должен признаться) я осознаю себя теперь благодаря тому, что никакие причины не могут способствовать восприятию – воска ли или какого-либо иного тела,– не выявляя одновременно ещё яснее природу моего ума! Но помимо этого в самом уме содержится и много другого, на основе чего можно достичь более отчётливого понимания нашего ума, так что воздействие на него нашего тела вряд ли следует принимать во внимание.
Таким образом, я незаметно вернулся к своему исходному замыслу. Коль скоро я понял, что сами тела воспринимаются, собственно, не с помощью чувств или способности воображения, но одним только интеллектом, причём воспринимаются не потому, что я их осязаю либо вижу, но лишь в силу духовного постижения (intellectus ), я прямо заявляю: ничто не может быть воспринято мною с большей лёгкостью и очевидностью, нежели мой ум. Но поскольку невозможно так быстро отделаться от прежнего привычного мнения, желательно задержаться на этом, дабы при помощи долгого размышления глубже запечатлеть это новое знание в своей памяти.
Я не должен также предполагать – поскольку реальность, усматриваемая мною в моих идеях, только объективна, – будто нет необходимости в том, чтобы та же самая реальность формально содержалась в причинах этих идей, и будто достаточно того, чтобы и в них она содержалась лишь объективно. Ибо насколько этот объективный модус бытия соответствует идеям по самой их природе, настолько же и формальный модус бытия соответствует причинам идей также по самой их природе – по крайней мере, первичным и основным причинам. И хотя, возможно, одна идея может возникать из другой, тем не менее бесконечного прогресса здесь не дано, но, напротив, в конце концов происходит возвращение к какой-то первичной идее, причина которой есть как бы архетип, в коем формально содержится вся реальность, содержащаяся в идее лишь объективно. Таким образом, естественный свет делает для меня очевидным, что идеи существуют во мне в качестве неких образов, кои вполне могут быть лишены совершенства вещей, в соответствии с которыми они были образованы, однако не содержат в себе ничего большего или более совершенного, нежели эти вещи.
Но чем дольше и тщательнее я исследую всё это, тем яснее и отчётливее познаю истинность исследуемого. Каков же, однако, будет мой вывод? Вот он: если объективная реальность какой-либо из моих идей даёт мне уверенность, что этой реальности во мне нет ни формально, ни по преимуществу, значит, я сам не могу быть причиной этой идеи; а из этого с необходимостью вытекает, что на свете я не один, но существует и какая-то иная вещь, представляющая собой причину данной идеи. Однако, если бы во мне не обнаружилось ни одной подобной идеи, у меня не было бы ни одного аргумента, который давал бы мне уверенность в бытии какой-либо отличной от меня вещи: ведь я тщательнейшим образом всё обозрел и до сих пор не могу прийти ни к чему иному.
Но среди этих моих идей помимо той, которая являет мне меня самого и относительно которой здесь не может быть никакого сомнения, существует ещё другая, представляющая Бога, и различные идеи, представляющие телесные вещи, ангелов, животных, наконец, иных, подобных мне, людей.
Относительно идей, являющих других людей, животных или ангелов, я вполне понимаю, что они могут быть составлены из тех идей, какие у меня имеются обо мне самом, о телесных вещах и о Боге, даже если бы, кроме меня, на свете не существовало никаких людей, животных и ангелов.
Что до идей телесных вещей, то в них не обнаруживается ничего такого, чего нельзя было бы извлечь из меня самого: ведь если вглядеться поглубже и проследить каждую из них так, как я перед тем проследил идею воска, я замечу в ней лишь очень немногое, воспринимаемое ясно и отчётливо, а именно размеры, или протяжённость в длину, ширину и высоту; очертания, обозначающие границы этой протяжённости; расположение различным образом сформированных частей этой вещи и, наконец, движение, или изменение этого расположения; к этому можно добавить субстанцию, длительность и количество; всё же остальное – свет, цвета, звуки, запахи, вкусовые ощущения, степень тепла и холода и прочие осязаемые качества мыслятся мной лишь весьма туманно и смутно, вплоть до того, что я не ведаю, истинны ли они или ложны, или, иначе говоря, представляют ли собой мои идеи этих качеств действительно идеи неких вещей или нет. И хотя я повторяю, что ложность как таковая, существует ли она в собственном смысле или только формально, может обнаружиться в одних лишь суждениях, как я отметил несколько выше, тем не менее в идеях есть совершенно иная, материальная ложность – когда вещь бывает представлена совсем не как вещь: к примеру, идеи, существующие у меня относительно холода и тепла, настолько неясны и лишены отчётливости, что не дают мне возможности понять, является ли холод недостатком тепла или тепло – недостатком холода, или же они представляют собой реальные качества либо, напротив, таковыми не являются. А так как любая идея может быть лишь идеей вещи, то, если бы было истинным, что холод есть всего лишь отрицание тепла, тогда идею, представляющую мне его в качестве чего-то реального и положительного, справедливо можно было бы назвать ложной; то же самое относится и к другим подобным случаям.
В этих вопросах мне нет необходимости указывать на какого-либо автора, не согласного с моим мнением: ведь если такие идеи ложны или, иначе говоря, если они не представляют никакой вещи, сам естественный свет подсказывает мне, что они родились из небытия, то есть появились у меня лишь в силу какой-то ущербности моей природы, которая оказывается недостаточно совершенной; если же идеи эти истинны, хотя они являют мне столь мало реальности, что я не могу отличить её от невещественности, я не вижу, почему бы этим идеям не исходить от меня самого.
Из того, что в идеях телесных вещей есть ясного и отчётливого, мне кажется, кое-что может быть заимствовано от идеи меня самого, а именно субстанция, длительность, количество и прочее в том же роде; ибо когда я мыслю камень как субстанцию, или как вещь, которая сама по себе способна к бытию, а также и себя как субстанцию, то хоть и постигаю себя как вещь мыслящую и не протяжённую, а камень – как вещь протяжённую, но не мыслящую, из чего возникает предельное различие между тем и другим понятием, в смысле субстанции понятия эти совпадают. Точно так же, когда я воспринимаю своё нынешнее бытие и вспоминаю, что существовал какое-то время и прежде, когда у меня есть различные мысли, количество которых я осознаю, я получаю идею длительности и числа, которую впоследствии могу применить к каким-то другим вещам. Всё же прочее, из чего составляются идеи телесных вещей, а именно протяжённость, очертания, положение и движение, поскольку я – вещь мыслящая, формально во мне не содержится; так как это лишь некие модусы субстанции, я же – субстанция как таковая, всё это содержится во мне, как я думаю, лишь по преимуществу.
Итак, остаётся одна идея Бога, относительно которой надо рассмотреть, не может ли здесь что-либо исходить от меня самого. Под словом «Бог» я понимаю некую бесконечную субстанцию, независимую, в высшей степени разумную, всемогущую, сотворившую как меня самого, так и всё прочее, что существует, – если оно существует. Несомненно, перечисленные совершенства таковы, что по мере тщательного их рассмотрения мне представляется всё менее возможным, чтобы они исходили от меня одного. Таким образом, следует сделать вывод от противного, что Бог необходимо существует.
Ведь хотя некая идея субстанции присутствует во мне по той самой причине, что и сам я – субстанция, тем не менее у меня не может быть идеи бесконечной субстанции в силу того, что сам я конечен, – разве только идея эта будет исходить от какой-либо воистину бесконечной субстанции.
Я не должен считать, будто я не воспринимаю бесконечное с помощью истинной идеи, а воспринимаю его лишь путём отрицания конечного – как я воспринимаю покой и тьму через отрицание движения и света; ибо, напротив, я отчётливо понимаю, что в бесконечной субстанции содержится больше реальности, чем в конечной, и потому во мне некоторым образом более первично восприятие бесконечного, нежели конечного, или, иначе говоря, моё восприятие Бога более первично, нежели восприятие самого себя. Да и каким же образом мог бы я понимать, что я сомневаюсь, желаю, то есть что мне чего-то недостаёт и что я не вполне совершенен, если бы у меня не было никакой идеи более совершенного существа, в сравнении с которым я познавал бы собственные несовершенства?
Нельзя также сказать, будто эта идея Бога в материальном отношении ложна и потому может возникнуть из ничего, как я несколько выше заметил относительно идей тепла и холода, а также других им подобных; напротив, так как она предельно ясна и отчётлива и содержит в себе больше объективной реальности, чем какая-либо другая идея, ни одна из них не является сама по себе более истинной и внушающей мне меньше подозрений в её ложности. Я утверждаю, что эта идея всесовершенного и бесконечного существа в высшей степени истинна; ибо хотя можно вообразить себе, будто такого существа нет, однако нельзя вообразить, будто его идея не являет мне ничего реального, как я сказал это ранее об идее холода. Идея Бога в высшей степени ясна и отчётлива: ведь в ней содержится все, что я воспринимаю ясно и отчётливо и считаю реальным и истинным, всё, что несёт в себе некое совершенство. Этому не препятствует моё непонимание бесконечности или наличие у Бога бесчисленного множества других качеств, коих я не могу ни постичь, ни, быть может, попросту затронуть мыслью: ведь в понятии бесконечности для меня, существа конечного, заложено нечто непостижимое; но для того чтобы моя идея Бога оказалась наиболее истинной, ясной и отчётливой из всех идей, коими я располагаю, мне достаточно понять и вынести суждение, что всё, ясно мной воспринимаемое, и всё, о чём я знаю, что оно несёт в себе некое совершенство, а также, быть может, множество других качеств, мне неведомых, – всё это либо формально, либо по преимуществу присуще Богу.
Быть может, однако, я представляю собой нечто большее, нежели сам я думаю, и все совершенства, приписываемые мной Богу, некоторым образом содержатся во мне потенциально, пусть они до сих пор и не выявились и не перешли в действительность. Ведь я чувствую, что познание моё постепенно растёт, и не вижу, что могло бы воспрепятствовать всё большему и большему его росту – до бесконечности, а также что могло бы помешать мне, при подобном расширении знания, таким образом постичь все прочие совершенства Бога; наконец, я не понимаю, почему бы для образования идеи этих совершенств не довольно было способности к развитию таких совершенств – если только она во мне заложена.
Однако всё это совсем немыслимо. Ибо, прежде всего, хотя и верно, что познание моё постепенно растёт и во мне потенциально содержится многое, ещё не перешедшее в действительность, ни одна их этих вещей не имеет отношения к идее Бога, в которой нет ничего чисто потенциального; да и самый факт постепенного роста знания является вернейшим свидетельством несовершенства. Помимо этого, хотя познание моё делается всё шире и шире, я, однако, понимаю, что оно никогда не станет действительно бесконечным, ибо никогда не достигнет такого предела, при котором окажется неспособным к дальнейшему расширению; что же до Бога, я считаю его столь бесконечным, что к его совершенству ничего уже нельзя добавить. И наконец, я воспринимаю объективное бытие идеи не как нечто в своей основе потенциальное (что было бы пустым звуком), но как нечто исключительно актуальное и формальное.
Разумеется, во всем этом нет ничего такого, что не стало бы благодаря естественному свету разума вполне очевидным тому, кто на этом прилежно сосредоточится; но поскольку, если я не очень внимателен – а образы чувственных вещей притупляют остроту ума, – мне уже не так просто представить себе, почему идея более совершенного, нежели я, существа с необходимостью исходит от существа, которое и в самом деле более совершенно, надо, далее, поставить вопрос, в состоянии ли я, обладающий такой идеей, существовать, если подобное существо лишено бытия.
Точнее, от кого я происхожу? Значит, от самого себя, или от моих родителей, или ещё от каких-то существ, менее совершенных, нежели Бог: ведь ничего совершеннее Бога или равного ему по совершенству невозможно ни помыслить, ни вообразить.
Однако если бы я происходил от самого себя, я не испытывал бы ни сомнений, ни желаний, и вообще я был бы самодовлеющим существом: ведь я придал бы себе все совершенства, идеями которых я обладал бы, и, таким образом, сам был бы Богом. Ибо я не должен предполагать, будто недостающие мне свойства для меня более труднодостижимы, нежели те, коими я уже обладаю; напротив, совершенно ясно, что намного сложнее для меня – мыслящей субстанции, или вещи, – возникнуть из ничего, нежели достичь познания многих вещей, пока мне неведомых, но представляющих собой всего лишь акциденции этой субстанции. Разумеется, даже если бы во мне было больше этой субстанции, я не стал бы отвергать и того, что может быть получено мною лёгким путём, и тем более не отверг бы ни одной из вещей, воспринимаемых мной как содержание идеи Бога; ведь и в самом деле ни одна из этих вещей не представляется мне слишком недостижимой. Если бы какие-то из этих вещей были действительно трудными в указанном смысле, они и казались бы мне таковыми, даже если бы я получил от самого себя всё прочее, что я имею, ибо я испытал бы таким образом ограниченность моей потенции.
Эти аргументы останутся в силе даже в том случае, если я предположу, что, быть может, я всегда был таким, каков я ныне: словно из этого могло бы следовать, будто я не должен искать какого-то творца моего бытия. Ведь поскольку всякое время жизни может быть поделено на бесчисленное количество частей, из которых одни никоим образом не зависят от других, тот факт, что несколько раньше я существовал, вовсе не влечёт за собой необходимости моего нынешнего существования – разве только некая причина как бы воссоздаст меня заново к настоящему моменту или, иначе говоря, меня сохранит. Однако для любого внимательного ума, рассматривающего природу времени, вполне очевидно, что для сохранения любой вещи в каждый отдельный момент её существования потребна не меньшая сила воздействия, чем для созидания той же самой вещи заново, если до сих пор её не было; таким образом, благодаря естественному свету очевидно: сохранение отличается от творения лишь количественно.
Теперь я должен задать самому себе вопрос, обладаю ли я той силой, которая помогла бы мне продолжать существовать и несколько дольше таким, каков я есть в настоящий момент? Ведь поскольку я не что иное, как вещь мыслящая, или, по крайней мере, поскольку я веду сейчас речь лишь о той моей части, которая является мыслящей вещью, если бы подобная сила у меня имелась, я, вне всякого сомнения, о ней бы ведал. Однако я не чувствую никакого присутствия во мне этой силы и именно потому с наивысшей очевидностью осознаю, что нахожусь в зависимости от какого-то бытия, отличного от меня самого.
Возможно, однако, что бытие это – не Бог и я порождён либо моими родителями, либо какими-то иными причинами, менее совершенными, нежели Бог. Более того, очевидно, как я уже сказал раньше, что в причине должно быть заложено по меньшей мере столько же, сколько и в следствии; поэтому надо признать, коль скоро я – вещь мыслящая и ношу в себе некую идею Бога, что, какая бы ни была предопределена мне причина, она также должна быть вещью мыслящей, обладающей идеей всех совершенств, кои я приписываю Богу. Относительно этой причины можно опять-таки задать вопрос: существует ли она сама по себе или в силу другой причины? Ведь если она существует сама по себе, то из сказанного ясно, что она – Бог, ибо, обладая способностью самостоятельного бытия, она несомненно должна также актуально обладать всеми совершенствами, идею которых она в себе носит, или, иначе говоря, всем тем, что я считаю присущим Богу. Если же она зависит от другой причины, то подобным же образом следует поставить вопрос об этой последней – сама ли по себе она существует или зависит от другой причины – и так мы в конце концов придём к самой последней причине, каковая и будет Богом.
Достаточно ясно, что здесь не дано поступательного движения до бесконечности, особенно ввиду того, что я говорю не только о той причине, коя некогда меня породила, но и, главным образом, о той, что сохраняет меня сейчас.
Нельзя также вообразить, будто меня породило несколько причин одновременно и от одной из них я получил идею одного из совершенств, приписываемых мной Богу, а от другой – идею другого, так что все эти совершенства имеются где-то в универсуме, но не собраны воедино в одном и том же [существе], каковое есть Бог. Напротив, именно единообразие и простота, или нераздельность, всех свойств Бога и составляет одно из тех совершенств, кои я у него предполагаю. И, конечно, идея подобного единообразия совершенств Бога не может быть порождена во мне причиной, которая не давала бы мне представления также и о других его совершенствах: ведь в силу этой причины я не мог бы постичь все совершенства Бога как связанные между собой и нераздельные, если бы она одновременно не дала мне познания, каковы они есть.
Наконец, что касается родителей, то, хотя все, что я думал о них прежде, верно, вовсе не они сохраняют моё существование, равно как они никоим образом не сотворили меня – вещь мыслящую; они заложили лишь некие предрасположенности в ту материю, коей, как я считал, я внутренне причастен – я, то есть мысль, которую одну только я в настоящее время принимаю за самого себя. Таким образом, здесь в отношении родителей не может возникнуть никакой трудности; следует лишь сделать общий вывод – из одного того, что я существую и во мне заложена некая идея совершеннейшего бытия, то есть Бога, – что существование Бога тем самым очевиднейшим образом доказано.
Мне остаётся исследовать, каким образом я получил от Бога эту идею: ведь я не почерпнул её из моих ощущений, она не явилась мне однажды нежданно, как это бывает обычно с образами чувственных вещей, когда эти вещи воздействуют на внешние органы чувств или когда кажется, что они на них воздействуют; точно так же идея эта не вымышлена мною, ибо я не могу ровным счётом ничего от неё отнять и ничего к ней добавить; остаётся предположить, что она у меня врождённая, подобно тому как у меня есть врождённая идея меня самого.
Разумеется, нет также ничего удивительного в том, что Бог, создавая меня, вложил в меня эту идею – дабы она была во мне как бы печатью его искусства; нет также никакой необходимости, чтобы знак этот был чем-то отличным от самого творения. Но из одного лишь того, что меня создал Бог, вытекает в высшей степени достоверная мысль, что я был создан по его образу и подобию, и именно это подобие, в коем заключается идея Бога, воспринимается мной с помощью той же способности, благодаря которой я воспринимаю и самого себя. Это означает, что, когда я обращаю остриё своей мысли на самого себя, я не только понимаю, что я несовершенная вещь, зависящая от кого-то другого, – вещь, неограниченно устремляющаяся всё к большему и большему, то есть к лучшему, – но и понимаю, что тот, от кого я зависим, содержит в себе это большее не просто неограниченным образом и только в потенции, но актуально, как нечто бесконечное, и потому он – Бог. Вся сила моего доказательства заключена в том, что я признаю немыслимым моё существование таким, каков я есть по своей природе, а именно с заложенной во мне идеей Бога, если Бог не существует поистине – тот самый Бог, чья идея во мне живёт, Бог – обладатель всех тех совершенств, коих я не способен постичь, но которых я могу некоторым образом коснуться мыслью, Бог, не имеющий никаких недостатков. Из этого уже вполне ясно, что он не может быть обманщиком: ведь естественный свет внушает нам, что всякая ложь и обман связаны с каким-то изъяном.
Однако, прежде чем исследовать это подробнее и проследить все те истины, кои могут быть отсюда извлечены, я позволю себе здесь задержаться на созерцании самого Божества, по достоинству оценить его атрибуты и вглядеться в необозримую красоту этого света – насколько это допускают способности моего тёмного разума, – дабы выразить ему своё восхищение и поклонение. Подобно тому как в одном лишь созерцании божественного величия мы полагаем, веруя, счастье и блаженство инобытия, точно так же в этом созерцании, пусть и гораздо менее совершенном, мы обретаем возможность величайшего наслаждения, на какое мы способны в сей жизни.
10 Во французском тексте: «бесконечного и неизменного».
11 Терминология, употребляемая здесь Декартом в соответствии со схоластической традицией, в известной степени противоположна современного употреблению этих латиноязычных терминов. Так, объективная реальность уже давно означает действительное бытие, находящееся вне ума, тогда как в терминологии схоластики, используемой Декартом, «объективная реальность» означает существование только в мысли, а не в действительности. Существование же в последнем смысле – это для Декарта реальность актуальная или формальная . Понятие эминентное (преимущественное) существование , теперь практически вышедшее из употребления, противопоставляется здесь как «объективной», так и «формальной» реальности. Итак, нечто может существовать, по Декарту, трояким образом: 1) объективно – в наличествующей в нас идее; 2) формально – в бытии, представленном данной идеей; 3) эминентно – в некоем первоначале (принципе), от которого данное существование получает своё бытие. См . Laland A . Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, 1962. P. 277. Синонимом « эминентного » может служить « трансцендентное ». См . Foulkié P . Dictionnaire de lal langue philosophique. Paris , 1062. P . 208.
12 Здесь слово математика употреблено в смысле «достоверная наука».
13 Во французском переводе даже вместо или – «и».
Декарта обычно считают основателем современной философии, он пытается создать заново законченное философское здание. Декарт был философом, математиком и учёным (Мир, или Трактат о свете (1633); Рассуждение о методе (1637); Размышления о первой философии (1641); Первоначала философии (1644)).
Метод «картезианского сомнения». Сколь многие ложные мнения я принимал с раннего детства за истинные и сколь сомнительны положения, выстроенные мною впоследствии на фундаменте этих ложных истин; а из этого следует, что мне необходимо раз и навсегда до основания разрушить эту постройку и положить в её основу новые первоначала, если только я хочу когда-либо установить в науках что-то прочное и постоянное. Декарт начинает со скептицизма относительно чувств. из всех вещей, некогда почитавшихся мною истинными, нет ни одной, относительно которой было бы недопустимо сомневаться; у меня появятся большие надежды, если я измыслю даже самую малую вещь, которая была надёжной и несокрушимой.
Усомниться можно во всём, но только не в том, что я сомневаюсь. Сомнение – акт мысли, значит я мыслю. Но я не мог бы мыслить, если бы не существовал. Я мыслю, следовательно я существую. Я существую столько, сколько я мыслю (я-вещь мыслящая). Кроме того, я есть мыслящее существо. Декарт принимает эту истину за первый искомый им принцип философии. Этот принцип делает сознание более достоверным, чем материю, и мой ум (для меня) более достоверен, чем ум других.
Одни идеи представляются смутными, другие – ясными и отчётливыми. Принцип cogito ergo sum именно потому так очевиден, что он ясен и отчётлив и, следовательно, истинен. Другая ясная идея – идея Бога – идея бесконечной, независимой, в высшей степени разумной и всемогущей субстанции. Но такая идея не может исходить из меня самого, поскольку сам я конечен, и также не может быть выведена из других идей. Идея Бога может исходить лишь от того, что содержит в себе не меньше реальности, чем мыслится в этой идее, т.е. лишь от самого Бога.
Естественный свет разума. Что касается других идей, то на идеи смутные я, по-видимому, не могу полагаться как на истинные. И даже идеи ясные и отчётливые не могли разве быть вложены в меня каким-нибудь могущественным, но злокозненным обманщиком? Хотя я ощущаю в себе способность суждения, позволяющую отличать истину от заблуждения, могу ли я полагаться на неё? Но невозможно, чтобы Бог меня обманывал (ведь во всяком обмане заключено нечто несовершенное) или хотел, чтобы я заблуждался. Поэтому я могу доверять этому естественному свету разума, при условии, конечно, что я правильно им пользуюсь.
Тело весьма легко погибает, ум же по самой природе своей бессмертен.
Метод достижения истины. Следует соблюдать лишь 4 правила: 1) принимать за истинное только то, что представляется уму ясно и отчётливо; 2) делить трудности; 3) располагать мысли в порядке от простого к сложному; 4) делать перечни настолько полными, чтобы ничего не пропускать.
Рассматривая вопрос о нашем познании тел, Декарт приводит пример с воском. [Самый воск составлен из протяжённости, гибкости и движения, которые понимаются умом, а не воображением. Вещь, которая является воском, сама по себе не может быть чувственно воспринимаемой, так как она равно включена во все явления воска, данные различным органам чувств. То, что я своими органами чувств вижу воск, достоверно говорит о моём собственном существовании, но не о существовании воска. Познание внешних вещей должно осуществляться умом, а не чувствами.]
Материя: не мыслит, протяженна, делима, как они взаимодействуют и как дух может хоть что-то знать о материи и наоборот, если они негде не пересекаются (*сам себе противоречит: говорит, что дух первичен, а материя вторична, но все равно ищет пересечения).
Идея Бога не могла быть увидена/вымышлена – она могла быь только вложена в голову человека – есть идея того, чем я не обладаю.
Надо признать, что жизнь человеческая в частных вопросах нередко подвластна ошибкам; таким образом, мы должны признать немощность нашей природы.